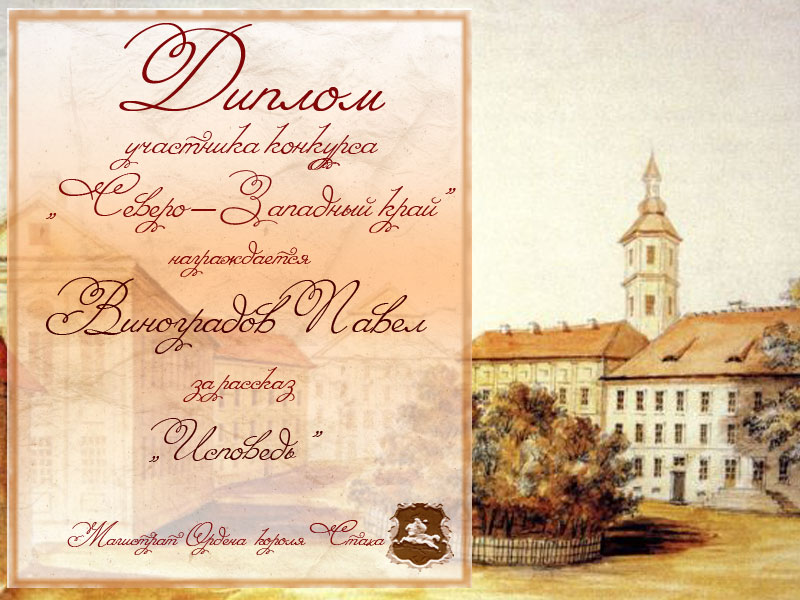
![Юзеф [И. Козловский]](/img/w/winogradow_p_w/text_0450/juzef_konnyj.jpg)
![Софья [И. Козловский]](/img/w/winogradow_p_w/text_0450/baba_sonja.jpg)
|
|
Связаться с программистом сайта.
|
|
|
| |
|
Рассказ написан на основе подлинной истории. Разумеется, я её несколько приукрасил, изменил имена, города, обстоятельства... Но суть её от того, думаю, не изменилась. Кому интересно, как было на самом деле, смотрите здесь. | |
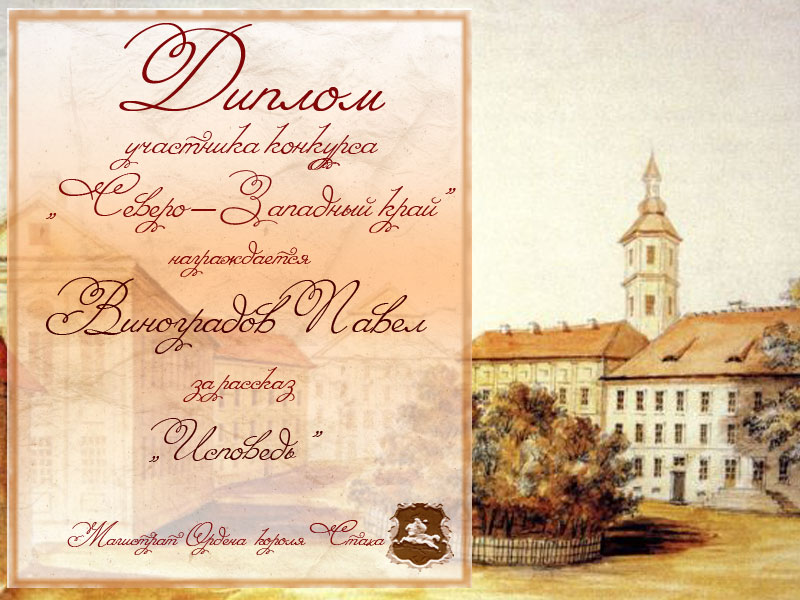
![Юзеф [И. Козловский]](/img/w/winogradow_p_w/text_0450/juzef_konnyj.jpg)
![Софья [И. Козловский]](/img/w/winogradow_p_w/text_0450/baba_sonja.jpg)
|
|
|
|